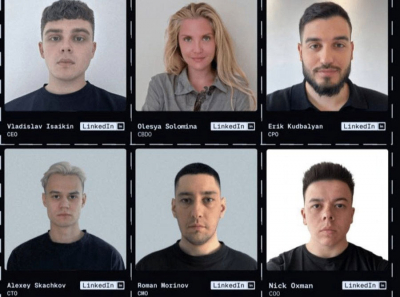Звезда по имени Михаил Скопин
Белый снег, серый лёд…
Москва в те мартовские дни была полна и уже подтаявшего снега и всё еще коварного и опасного льда, но москвичи не обращали на него внимания. Все их внимание занимало величественное и желанное зрелище, каких в Москве не было давно. Холодным мартом 1610 года по Москве парадом прошли победоносные войска Михаила Скопина-Шуйского.
Первая встреча проходила не в Москве, а — в знак особого уважения — еще за городом, в селе Напрудном. Туда царь Василий Иванович Шуйский послал князя Михаила Федоровича Кашина, думного дворянина Василия Борисовича Сукина и дьяка Андрея Вореева. Князь Кашин от имени царя произнес перед воеводами и войском приветственную речь, благодарил и здравствовал главнокомандующего и других воевод за службу. Ответную речь произнес воевода большого полка Михаил Скопин-Шуйский. Совершив все необходимое по протоколу, победители направились к городу.
Простой народ встретил победителей искренним ликованием: «Народ же града Москвы, уведав его приезд боярской, от мала даже и до велика и вси вострепеташа сердцы своими, возрадовася радостию неизглаголанною и от многия радости не можаху удержатися от слез. И вси с радостию поидоша на всретение ему, хотяху видете от Бога посланного воеводу…» (это из «Повести о победах Московского государства»).
Во всех церквах звонили колокола, радостные москвичи высыпали за деревянные стены встречать победителей, с крыш домов, с городских стен — отовсюду неслись крики приветствий, улицы были заполнены горожанами. Как только москвичи не называли воеводу Скопина: «оборонителем» и к врагам «огрозителем», «управителем» и «окормителем», «питателем и обогатителем»! Еще бы, благодаря его успешным действиям очистились подмосковные дороги, в город стали привозить продовольствие, дрова, корм для лошадей, словом, окончилась осада.
Вскоре показалось долгожданное войско. Впереди ехал сам главнокомандующий, князь Михаил Скопин, рядом с ним — шведский генерал Якоб Делагарди. За ними следовали воеводы — князья Иван Куракин и Борис Лыков, шурин Скопина Семен Головин, полковник Тенессон и с ним две с половиной тысячи наемников. Пешие и конные полки двигались по три человека в ряд, перед каждым полком несли расшитые золотом знамена, рядом со знаменщиком шли двое барабанщиков и громко били в барабаны. Войско было такое большое, что растянулось по всей Москве: ратники Большого полка уже подходили к Кремлю, а Сторожевого — едва только миновали Скородом (деревянный город).
У Сретенских ворот воевода Скопин спешился и до самого Кремля шел пешком. Его крупная, с коротко остриженными волосами голова была непокрыта, он радовался московскому ликованию, радовался самой Москве, в которой не был уже полтора года. Он вспоминал, как выехал отсюда осенью 1608 года с отрядом в 400 человек, а вернулся в столицу во главе целого войска.
Князь Михаил крестился на московские церкви и спокойно, уверенно шел мимо толп приветствующих его москвичей, одетый в соболиную шубу и расшитый золотом кафтан. Молодой красавец огромного роста, Скопин вызывал восхищение всех, кто его видел, он казался горожанам былинным богатырем. Перед воеводой несли развернутое знамя с изображением Спаса Нерукотворного, оно прошло с его войском долгий и трудный путь от Новгорода до Москвы.
Перед входом в Кремль Скопин остановился у Лобного места, оглядел наполненную народом площадь, именуемую Пожаром. Перед собравшимися на площади стоял пусть не венчанный на царство, но именуемый всеми «спаситель Отечества», тот, кто действительно сумел снискать всенародную любовь и славу. Москвичи положили перед своим освободителем земной поклон в знак благодарности, как если бы перед ними стоял сам царь. Скопин в ответ поклонился в пояс всем собравшимся, а уже потом прошествовал с воеводами в Кремль.
В Успенском соборе Скопин принял благословение патриарха Гермогена, отстоял благодарственный молебен и после долго молился коленопреклоненно перед Владимирской иконой Божией Матери. Патриарх Гермоген, глядя на могучую фигуру преклонившего колени молодого воеводы, напомнил собравшимся слова святых отцов: «Истина не доказуется, но показуется». После воеводу ждал непростой разговор с дядей-царем Василием.
Жить ему оставалось меньше месяца.
Наверное, такой же московский триумф удавалось пережить только одному царю – и тоже некоронованному. Так же торжественно шел во главе колонн победителей Казани холодной зимой 1553 года князь Владимир Старицкий. Москва так же чествовала и славила своего будущего многолетнего наместника и хранителя, а царь Иван не отсвечивал больше необходимого, как и Василий Шуйский в эти праздничные дни. Его так же предательски отравили.
Оба героя в момент парада были молоды, храбры и невероятно популярны.
Война – дело молодых, лекарство против морщин...
А через пару лет лишившаяся защитника столица сгорела в пожаре, в котором позор и предательство намешаны щедро, но ровно поровну.
Что в 1571, что в 1611.
Дежавю. Смутные бояре, понимавшие толк в символизме, даже похоронили их рядышком.
Вообще есть что-то мистическое в этих московских смертях военачальников - Михаилов. Ведь здесь же, в Москве окончил свои дни совсем нестарый еще «белый генерал», герой завоевания Азии и освобождения балканских братьев. Тоже видимо отравленный то ли врагами, то ли царем. Здесь же умер на операционном столе еще один завоеватель Средней Азии и победитель в гражданской войне (ну по крайней мере в горячей ее фазе). Впрочем, был и еще один полководец Михаил, который ее сжег. Правда тоже не зажился.
Пометки на полях.
Любители истории на то и любители, чтобы узнать в трех Михаилах Скобелева, Фрунзе и Кутузова. Для остальных – краткий экскурс.
Михаил Дмитриевич Скобелев – герой русского покорения Средней Азии, победитель Кокандского и Хивинского ханств, один из первых генерал-губернаторов Ферганы, которая после его смерти почти тридцать лет носила его имя (я про город, не про долину). Получил сумасшедшую популярность в ходе русско-турецкой войны 1877-78, «белый генерал» (Ак-паша), прославившийся невероятной личной храбростью. Национальный герой России и Болгарии. Позднее возглавлял туркменский поход. Генерал от инфантерии в неполные сорок лет, немного политик-панславянист. Как и Скопин – крупный рязанский помещик. Загадочно умер в Москве в 1882 году.
Михаил Илларионович Кутузов – выдающийся российский полководец, главнокомандующий русской армией в 1812 году. Версия о том, что именно он отдал приказ о сожжении Москвы с гневом отвергается историками, делящими вину между варваром Бонапартом и губернатором-франкофилом Ростопчиным, но цитата про «сжечь Москву, спасти Россию» остается в веках, как они не стараются. За год до московского пожара Михаил Илларионович опробовал схему на болгарском Рущуке и великом визире Ахмеде-аге. Тот тоже едва удрал в Константинополь, оставив армию бесславно гибнуть на дунайских берегах почти без боя.
Наполеон попил больше кровушки, но попался в аналогичный капкан. Только пожарище было больше. И больнее для русской истории.
И да, умер Михаил Илларионович, как и Михаил Скопин в апреле, в самый разгар так и не законченной войны. И тоже, возможно, от яда.
Конец пометок на полях
Последние полгода перед триумфом дались герою нелегко. В лагере под Калязиным изначально собралось около трех тысяч русских ратников (преимущественно из верхневолжских городов) и около тысячи наемников во главе с полковником Сомме. Единственный стоящий упоминания бой с отрядами Сапеги также имел место в начале августа. Отряд Семена Коробьина был послан Скопиным для захвата Переяславля. Сапега победил в открытом бою, после преследовал Коробьина до самого калязинского лагеря. Авангард тушинцев атаковал рогатки, защищаемые ратниками Скопина, и был отбит. Из этого в общем-то скромного успеха церковники сделали медиабомбу, которую некритично используют историки до сих пор.
Настоящие бомбы взрывались в это время в области международной дипломатии. В Москве Василий Шуйский договорился с представителями Делагарди о подкреплениях, пообещав и не отдав Корелу и деньги, а польский король Сигизмунд развязал войну с Россией, атаковав одновременно обоих смутных царей – и Василия, и Дмитрий. К Скопину, кстати, тоже гонца отправил, предложил перейти на службу Владиславу. Гонец не зажился.
Шуйский, в общем, показал себя опытным дипломатом, привязав выплату денег и передачу Корелы к моменту соединения армии Делагарди и Скопина. Даже деньги отправил именно родственнику, а не шведу напрямую, с одной стороны показав платежеспособность, с другой навязав свои условия. Ну и гарнизону Корелы тоже жалование послать не забыл. Такая вот дипломатия. Впрочем, Делагарди из тверской экспедиции вышел в плюсе и был готов попробовать еще раз. Ну и шведскому королю нужна была полноценная война между Литвой и Россией, мог подопнуть родственничка в нужном направлении.
Всю осень, пока Скопин бездеятельно торчал в Калязине и окрестностях, шел торг между Шуйским и Карлом. Формулировки варианта декабря 1609 в исполнении царя Василия были куда более предательскими, чем у Михаила в феврале. По просьбе царя Василия шведы обязались выслать дополнительно еще четыре тысячи человек к прежним пяти тысячам, при этом особо подчеркивалась их цель пребывания в России: всюду преследовать поляков и очистить Русское государство «от воров».
Но и король Швеции своего упускать не пожелал — по требованию Карла был добавлен новый пункт: кроме Корелы с уездом Россия должна Швеции «полное воздаяние воздати… чего велеможный король у государя нашего царского величества по достоянью попросит, города, или земли, или уезда». За этими стыдливыми умолчаниями легко угадать судьбу новгородских пригородов. Однако шила в мешке не утаишь. Популярность царя-шубника упала ниже плинтуса, а в качестве его сменщика всё чаще стали называть именно Скопина.
Скопин же, томившийся бездействием в лагере, съездил помолиться в Борисоглебский монастырь под Ростовом. Там его по легенде благословил преподобный Ириниарх и дела Скопина пошли на лад. С ним соединился Федор Шереметьев со своим шеститысячным войском и осмелевший молодой царь перенес ставку в бывшую столицу Грозного – Александров, создав реальную угрозу линиям коммуникации войска Сапеги. У его стен он сумел в конце октября одержать первую полноценную победу над отрядами тушинцев. Лихие кавалеристы Сапеги без вариантов смели авангард армии Скопина, но вместо беспорядочного бегства кавалеристы навели врага на русский гуляй-город, который встретил атакующих залпами. Армия Сапеги смешалась и отступила.
В январе 1610 Сапега снял осаду Троицы и отступил к Дмитрову. Скопин привел войска к обители, помолился там еще основательнее и под Дмитровым разбил Сапегу уже в честном открытом бою. Город едва не был взят с ходу, но то ли казаки погеройствовали, то ли лично Марина Мнишек солдат вдохновила, и город устоял. Но это была уже агония. Вскоре Сапега скорым маршем ушел на запад в смоленский лагерь короля. Практически одновременно покинули Тушино отряды Ружинского, умершего в этом отступлении. Все города тверской и московской земли, хранившие верность царю Дмитрию, вновь присягнули Шуйским.
Пометки на полях.
При ближайшем рассмотрении понимаешь, что Скопин был символом, но не творцом этих побед. Действительно сильная и профессиональная армия Шереметьева быстро и эффективно разобралась с Сапегой под Александровым. К Дмитровскому бою у недавно могущественного гетмана осталась лишь тень его армии, основой которой ранее были всё же русские сторонники царя Дмитрия. После бегства «доброго царя» из Тушино его сторонники синхронно дезертируют от предавших гетманов Сапеги и Ружинского. Порой дезертирство сопровождается стычками вчерашних братьев по оружию. А его (царя Дмитрия) дядя Шереметьев, опытный и умелый воевода, выигрывает компанию у Сапеги и Ружинского с разгромным счетом, не трогая, тем не менее, сохранившего верность Дмитрию Просовецкого в Суздале.
На финальном этапе компании в ней приняли участие еще и князья Куракин с Лыковым. Оба – первоклассные военспецы. С Делагарди договаривался напрямую царь Василий.
Князь Скопин успевал в это время ездить по монастырям и благодетельствовать вдов, сирот и монахов т.е. собственным пиаром занимался сильно больше, чем непосредственным командованием или дипломатией.
Конец пометок на полях.
Это был настоящий триумф царя Михаила и у него, молодого еще человека, откровенно сорвало башню от обрушившейся на него славы. Парад, приветствовавший его в Москве и само его поведение не говорили – кричали о претензиях на трон, возможно и единоличный. Подробностей разговора Михаила Скопина с братьями Шуйскими не сохранилось. Только история про взаимные претензии Дмитрия Шуйского и Михаила Скопина, которые царю Василию пришлось унимать, размахивая посохом. То ли Скопин предложил уступить ему трон, то ли это наветы. Но вроде обошлось.
Он не помнит слова «да» и слова «нет»,
Он не помнит ни чинов, ни имен…
Через месяц, 18 апреля, князя Михаила позвали стать крестным сына Ивана Воротынского. Крестины должны были стать зримым образом примирения в монаршей семье. Крестной была Екатерина Шуйская (в девичестве Скуратова-Бельская), жена Дмитрия. Сам счастливый отец был шурином царя Василия. Однако вместо семейной идиллии заметно нервничавшего князя от души напоили сулемой, и 23 апреля (в день святого Георгия Победоносца) после почти недели страшных мучений он умер. В этот день Шуйские потеряли трон, который формально отдали только в августе.
Москва горевала, и горевала искренне, но не вся. Песня даже сохранила романовскую версию тех, кто горевал не особо.
А съезжалися князи бояря супротиво к ним,
Мстиславской-князь, Воротынской,
И межу собою они слово говорили,
А говорили слово, усмехалися:
«Высоко сокол поднялся
И о сыру матеру землю ушибся!»
Впрочем, отыскать его реальных убийц я попробую в отдельной статье.
Пока же просто констатирую: устранение наследника старика-правителя ради перехвата власти – история нередкая в нашей стране. Иван Иванович, что сын Ивана III, что сын Ивана IV, не дадут соврать. Да что там древность, вспомните хотя бы партийные разборки начала 50-х или 80-х при еле живых Сталине и Брежневе. Времена меняются, а люди - нет.
Да и не в нашей стране так же. Франко и Салазар умерли своей смертью, а вот их преемники – нет. Охотились на них как на диких зверей. А как перегрызлись при живом отце сыновья Сулеймана Кануни, не смевшие посягнуть на отца. Ну да примеров – сотни.
Невенчанный московский царь Михаил Скопин умер, а вот его звезда только восходила. Церкви и историкам в этом времени нужен был герой. Они в несколько итераций и превратили золотого мальчика рода Шуйских в великого героя нашей истории. Где-то ради этого пришлось поступиться исторической правдой, но когда и кого это останавливало. Последние штрихи наносили уже советские послесталинские. Сам вождь предпочитал Болотникова.
И я их понимаю. Первые версии статей про него были полны сарказма, но в чистовиках вы его практически не увидели. Есть в этом наивном и гонористом великане что-то настолько искреннее и русское, что язык не поворачивается его так уж ругать.
Ну отдал Корелу и отдал, Грозный вон еще больше отдал и все еще Грозный.
Ну приписывал себе чужие победы (и не всегда победы), ну так кто из нас в двадцать с небольшим смог бы удержаться. Александр Македонский от этого великим быть не перестал.
Ну удрал из Новгорода в бунт, так и Петр в его возрасте бежал от одной тени стрелецкой атаки чуть не в одной рубахе. Что ж он теперь, менее Великий что ли?
Ну то, ну это. Никто не был святым в те мутные времена, но Скопин не врал, не крал и не прятался за чужие спины. И мог бы стать совсем неплохим венчанным царем.
Раз уж все равно суждено было короновать Михаила.